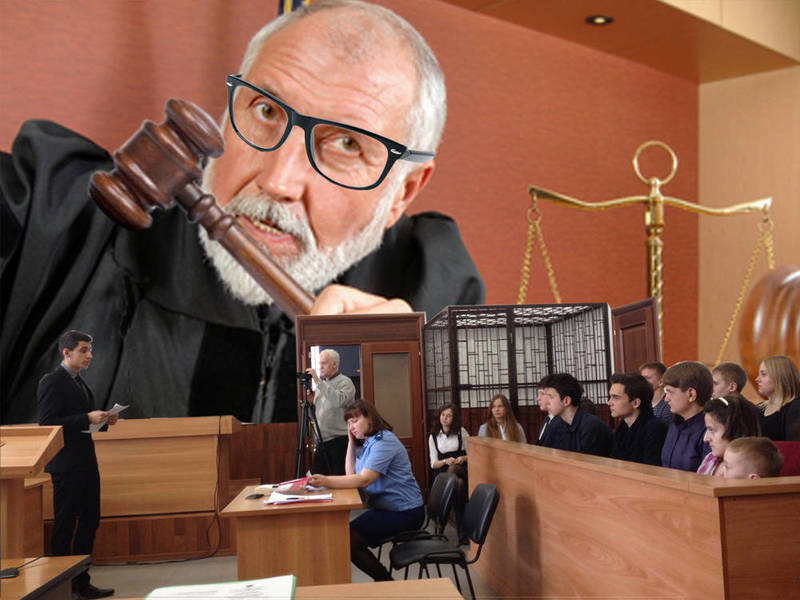Наверняка многие считают, что наше правосудие при расследовании преступлений видит только одну цель: докопавшись до истины, в итоге справедливо наказать преступника или оправдать невиновного. Однако оказывается, эта самая истина даже не фигурирует в российском законодательстве! Требования принять все меры к отысканию истины содержались в российском уголовно-процессуальном законодательстве и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года и в советских Уголовно-процессуальных кодексах (УПК) РСФСР 1922 и 1960 годов. Однако в 2002 году в новом УПК оно исчезло…
В чем разница?
Два года назад по инициативе Следственного комитета объективную истину задумали вернуть. Причем по предлагаемому законопроекту ее должны будут искать не только судьи, но и прокуроры, и следователи. Судья должен стать активным участником процесса. Ему можно будет ходатайствовать о восполнении нехватки доказательств, а если это будет не реально сделать в ходе судебного процесса, то он может возвращать дело прокурору на доследование. Именно такой порядок, по мнению инициаторов документа, оградит подсудимого от несправедливого обвинения.
Однако противники предложения утверждают, что в таком случае суд лишится беспристрастности, поскольку на него будут возложены функции защиты или обвинения.
- Есть американская система уголовно-процессуального доказывания и есть германская. Объективная истина была свойственна нашей, европейской, или германской системе, - поясняет адвокат Георгий Курашвили. - В прежнем Уголовно-процессуальном кодексе это была статья 20. Но, когда в 2002 году данное понятие изъяли из УПК, победила американская концепция. Решено было, что судья - это арбитр, он наблюдает сверху за поединком прокурора и адвоката и как самый мудрый разрешает спор между ними. И кто из них окажется красноречивее, убедительнее, тот и побеждает. Подсудимый мог быть преступником, но если обвинение не смогло это доказать судье, то виновный имел шанс избежать наказания.
Однако на практике все повернулось совсем по-другому. Никакой у нас судья не арбитр. Как он был заодно с прокурором, так и остается поныне. То, что адвокат и обвинитель две равные стороны процесса, - это профанация и обман обывателя, - утверждает Георгий Отариевич. - Раньше судья имел права делать запросы, мог вернуть дело прокурору, если он сомневался в доказанности вины. Сейчас, коль скоро не нужна объективная истина, судья должен оправдать человека, если обвинение не доказало вину. Но опять-таки ничего этого нет. Оправдывают у нас редко, судьи боятся за честь мундира.
Иногда я поражаюсь: некоторые судьи не знают, что понятия объективной истины уже нет! О чем тут можно говорить, если законоприменители не знают закон?
Сейчас с инициативой возврата объективной истины выступает Следственный комитет. Многие считают, что следствие тем самым пытается привлечь судью на свою сторону, чтобы он исправлял их ошибки, работал за них, искал доказательства.
Возвращение объективной истины в УПК даст адвокатам дополнительный довод говорить о том, что раз истина не установлена, то нужно вернуть дело на дополнительное расследование.
Если бы равноправие сторон соблюдалось, тогда другое дело, я был бы против объективной истины. Но учитывая, что сейчас все остается по-старому, то я за ее возвращение. Повторяю, я исхожу из того, что судья как был на стороне обвинения, так и остается. Поэтому коль скоро это так, то объективную истину нужно ввести в УПК.
- До тех пор, пока у нас сохранится нынешняя психология суда и государства, пока судья боится оправдывать, опасаясь за свою должность, все будет оставаться по-прежнему, - резюмирует адвокат Курашвили.
Кто-то кое-где порой…
А возможно ли в принципе в ходе расследования уголовного дела узнать истинную картину преступления? Мы, конечно же, не говорим сейчас о тех случаях, когда, на радость следствию, деяние совершается под объективом камеры видеонаблюдения.
Сейчас довольно большой процент обвинительных заключений по делам, которые прокуратура передает в суд, содержит повествование, точь-в-точь как в песне: "Кто-то кое-где у нас порой…". Следствию зачастую не удается доказать причастность к преступлению некоторых сообщников, узнать время и место совершения противоправного деяния. И вот по таким обвинениям с весьма размытой картинкой люди признаются виновными.
К примеру, читаем в одном из недавних постановлений Борского городского суда по делу о фиктивной постановке на учет прибывших из ближнего зарубежья граждан местной жительницей. "Гражданка Г. в неустановленное дознанием время встретилась с неустановленным дознанием лицом на автобусной остановке, где, получив необходимые для оформления уведомлений документы, проследовала в отдел УФМС России. Там она заполнила и заверила своей подписью уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (указала свой дом в одной из деревень Борского района), которое затем передала сотруднику отдела УФМС России. Между тем гражданка Г. достоверно знала, что данные иностранные граждане по этому адресу пребывать не будут. В тот же день эти двое были поставлены на миграционный учет. Таким образом, гражданка Г. лишила возможности уполномоченные органы осуществлять контроль за передвижениями иностранцев на территории РФ".
Особенно много "неустановленных лиц" встречается в делах о наркопреступлениях. Кстати, в нашем случае ранее несудимой гражданке Г., продавщице, матери двоих детей, повезло: она попала под условия последней амнистии (к 20-летию Конституции), и уголовное дело в отношении ее было прекращено.
Объективное недостижимо?
"А на суде я брал все на себя, откуда ж знать им, как все это было…" Эти слова из песни Александра Розенбаума отражают реальную действительность.
- По прошествии какого-то времени установить истину вообще бывает просто невозможно, - говорит заместитель руководителя второго природоохранного следственного отдела Волжского межрегионального природоохранного следственного управления Следственного комитета РФ Юлия Царева. - Бывает так, что и свидетели уже ничего не помнят. А ведь их показания в суде, которые будут иметь малейшее противоречие с теми, что есть в материалах уголовного дела, могут стать основанием для возвращения дела на дополнительное расследование. А зачем? Ведь самое главное - установить, был ли состав преступления или нет. И доказать, что человек действительно виновен. Как только обнаружится, что какой-то момент не до конца и не в полном объеме выяснен, дело будут возвращать. Для следствия сей факт не очень желателен, ведь это один из показателей нашей работы. Сейчас суды не часто возвращают дела на доследование. А в поисках истины можно дойти до абсурда. Среди практиков бытует мнение, что любое уголовное дело можно расследовать до бесконечности. Я считаю, что все-таки должен быть какой-то разумный предел.
А какими только методами люди не пытаются докопаться до истины! Вспомним классику. Знаменитый герой Ильфа и Петрова Остап Бендер запускал Берлагу в воды Черного моря на очную ставку, в ходе которой было получено признание. После этого прозвучала знаменитая фраза: "Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды". Конечно, это не метод российского правосудия.
- Я считаю, что введение в УПК понятия "объективная истина" - это излишнее загромождение законодательства, и оно, по существу, никакого значения для достижения целей правосудия не имеет, - говорит прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области Александра Чураева. - Если выражаться бытовым языком, объективная истина - это то, как было на самом деле. Но на практике установить ее фактически невозможно. Ведь зачастую в основном особо тяжкие преступления совершаются в условиях неочевидности. Обычно все, что там сам жулик расскажет про события, и принимается следователем. Затем то, что точно опровергается, отметается. Остальное, что невозможно подтвердить или опровергнуть, принимается на веру. Понятно, преступник никогда правду не расскажет. Соответственно поиск объективной истины - это совершенно бестолковая и бесцельная трата бумаги и денег налогоплательщиков. Он ничем не улучшит положение лиц, обвиняемых в совершении преступления. Впрочем, у нас в законодательстве и так все повернуто в сторону виновных лиц в отличие от потерпевших. Считаю, что овчинка выделки не стоит…
Ольга МАКАРОВА. Фото image_gallery.ru, nnm.ru. Коллаж Елены СЛАВИНОЙ.
Справка "НН"
В 2013 году районными и городскими судами Нижегородской области были возвращенны прокурору для устранения недостатков в порядке статьи 237 УПК Российской Федерации - 151, что составляет 1,8 процента от общего числа оконченных производством дел и на 11,7 процента меньше чем в 2012 году (171 дело).
Комментарий
Евгений ВОЛКОВ, кандидат философских наук, доцент кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ имени Н.И.Лобачевского:
- Истина может быть только объективной. Субъективная истина - это субъективное мнение. Истина - это соответствие фактам. Дальше встает простой вопрос. Найдены ли все факты, исследованы ли они, правильно ли они интерпретированы? Это и создает возможность достижимого уровня объективности и истинности. Но всегда, естественно, речь идет об определенном уровне истины и о том, что установлено абсолютно достоверно, а что нет. Дальше уже суд по установленной части истины выносит приговор. А что не установлено, то считается недоказанным. Никакой бесконечности тут нет. Речь же не идет о том, что истина должна быть установлена любой ценой. Естественно, существуют объективные обстоятельства, которые приводят к тому, что мы на каком-то шаге останавливаемся.
А как у них?
Требование об установлении объективной истины содержится в УПК Германии и Франции.
В §155 УПК Германии находит свое отражение принцип материальной истины - базовый процессуальный принцип, согласно которому суд уполномочен и обязан самостоятельно расследовать и оценивать деяние обвиняемого в рамках предъявленного обвинения независимо от предъявленных сторонами доказательств.
Суд в Германии играет основную роль в процессе уголовного преследования, но это не означает, что он имеет неограниченную власть по переоценке доказательств, наоборот, существует ряд ограничений, призванных компенсировать издержки инквизиционной модели. Например, согласно §156 УПК Германии официальное обвинение после открытия основного судебного разбирательства не может быть отозвано и возвращено на предыдущие стадии, соответственно дело должно завершиться рассмотрением по существу.
Во Франции на стадиях, схожих по сути с российским предварительным расследованием, активную процессуальную роль играет прокуратура. При этом как в Германии, так и во Франции и судьи, и прокурорские работники, и адвокаты представляют собой единую гильдию со схожим или даже одним и тем же образованием, профессиональными нормами и ценностями.